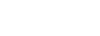maks., чё в школе опять двойку получил за Достоевского?)))
:gg::lol:
Хе-хе я школу кончил когда вы наверное ещё не родились.
А о Достоевском так для холивара. Вот ещё немного.
Вот нашёл у Розанова, интуитивно чувствовал хлыстовство Достоевского smile:?: В.В. Розанов
На лекции о Достоевском
Но, заговорив о диалектике, я не без умысла назвал хамелеона как величайшего и естественного "диалектика", назвал, наконец, "флюгер", назвал, наконец, беса. Все это очень серьезно. Диалектика есть гениальная вещь, но диалектика есть и бесовская, отчаянная вещь. "Все концы со всеми концами сходятся", -- и пресловутое карамазовское "все позволено", т. е. нет греха, не надо добродетели, "могу все, что хочу", -- есть только естественное и притом реальное заключение диалектики, есть вовсе не вывод Ивана Карамазова о мире и жизни, а вывод самого скорбного Фед. Мих-ча о мире и жизни, но лишь угрюмо сказанный, а не счастливо сказанный. А ему случалось и счастливо говорить этот же вывод. Как будто карамазовское "все позволено", до отцеубийства включительно, не есть то же самое, что умиленный лепет Кириллова о том, что "все хороши", что "вот ползет паук -- я и ему молюсь", "если кто изнасилует ребенка -- то и он хорош". Но у Кириллова это сказалось в евангельских тонах, соответственно кроткому, евангельскому сложению всего типа, всей его души, а у Ивана Карамазова -- мрачно; но мысль -- одна. И явно, что уже угрюмым оказыванием Иван Карамазов отрицает эту бесовскую мысль, а "святой" Кириллов предлагает эту мысль в самой обольстительной "евангельской" форме: "все обымемся", "все простим друг друга", "все возлюбим всех", растворим двери темниц, отменим суд, казнь... Вот и Федя каторжник, и Соня, и отец ее, и отцеубийца, и... и... И нет конца.
Да, черт знает, может быть, и в самом деле хорошо? Ведь в Священном писании, и Старом и Новом, что-то такое брезжит на конце всех концов? Но совершенно же несомненно, что при таковом "отворите мне темницу, дайте мне сиянье дня" -- летят вверх тормашками все царства, политики, права, летят прахом все цивилизации, Рим становится не мудрее Бедлама, Греция не выше Капернаума, меркнут Сократ и Аристотель, меркнет и становится не нужен разум человеческий, наука всемирная, да не нужна и самая добродетель, кувыркаются рай и ад, и вообще "все потрясается", а звезды, путеводные огоньки человечества, осыпаются с неба, как пуговицы с изношенного сюртука... все это было бы очень величественно и красиво, если бы не иллюстрировалось Тим. Ник. Грановским, который в изгибах этой диалектики кушает одну котлетку с Пав. Ив. Чичиковым и Виссарионом Г. Белинским, который перемигивается с Дубельтом.
-- Вот, ваше превосходительство, как вы меня на том глупом земном свете в бараний рог согнули. Стоило ли стараться?..
-- Да и я вижу теперь, что совсем не стоило стараться: ибо в по-ту-светном откровении тот, кто гнет в бараний рог, является выразителем только разных сторон одной неуловимой истины. Так что теперь, в случае нового воплощения, я могу писать критические статьи не хуже вас, а издатели будут печатать "полное собрание сочинений идеалиста Дубельта", и публика будет их читать не менее охотно, чем ваши, ибо, по диалектике, ведь "все равно" и "все друг с другом обымемся"...
Дубельт-не-Дубельт, ну а, например, Константин Леонтьев: идеалист по плечу Достоевскому и вместе с тем реакционер мрачнее Дубельта.
Будет ли это необыкновенно хорошо или будет чудовищно отвратительно -- ничего нельзя сказать. И что горько -- воистину нельзя сказать. "Ослепли", "не видим"... Вот resume громадной работы Достоевского, работы гениальной, страшной. Его Грановский переходит в Чичикова ("хамелеон"), у него Господь Бог играет в преферанс с Мефистофелем. "Ничего мне так не хотелось бы, -- говорит Ивану Карамазову черт, -- как перевоплотиться в семипудовую купчиху и ставить бы толстые восковые свечи на обедне". Это -- текст, это -- точное слово Достоевского: ну, и не нужно длинных комментариев, чтобы эту "мечту" беса переложить на картину действительности -- и тогда очень умилительные сцены, к каким мы привыкли, неожиданно окажутся главами не "божественной", а демонической оратории. Достоевский слишком далеко хватал разнузданною фантазией, и к этим граням отрицания и сомнения мы не решаемся ступать за ним.
При этом, что особенно ужасно, так это то, что Достоевский совершил свою диалектику не логически, не в схеме, как Платон и Гегель, а художественно: и через это он смешал безобразие и красоту. Как "resume" всей его работы, у него и мелькнуло в "Бр. Карамазовых", что "идеал содомский переходит в идеал Мадонны: и обратно, среди Содома-то и начинает мелькать идеал Мадонны". Это Митя Карамазов говорит Алеше и добавляет: "Снилась ли тебе, мальчику, эта истина?" У Достоевского это сказалось с таким экстазом, с таким глубоким проникновением, что, несомненно, тут не в Мите и не в Алеше дело, а в самом Федоре Михайловиче -- это его глубочайшая и задушевная мысль, это его сумасшествие, это его евангелие, "новое благовестие".
Замечательно, что к концу жизни Достоевский становился все гениальнее и все расстроеннее, гений его нарастал, но и безумие его все возрастало... Он явно "сходил с ума", не в медицинском смысле, а вот в этом гегелевском, платоновском, или, как говорит народ, в смысле того, что у него "ум за разум стал заходить", ум и суждение перешли нормальные границы суждения и ума... "Широк человек, слишком широк -- я бы сузил", -- отчаянно говорит он в тех же "Карамазовых"...
И наконец, что любопытно и поучительно, так это то, что не Достоевский "повернул так и эдак" свою диалектику, не он "показал" нам то-то и то-то, а в нем повернулась так диалектика, в нем нам дано было увидеть "все концы, сошедшиеся со всеми концами". Поднимите "Преступление и наказание" к свету вечности, и что вы там увидите, за выбросом всех подробностей, в единственном исключительно сюжете: "праведного" "убийцу", "святую" "проститутку". Вот -- суть; остальное -- аксессуары. Т. е. что же? Возможность, нравственную возможность праведного убийства и святой проституции.
Голова кружится.
Состав этого "белого луча" в "темном Достоевском" чуть ли не столько же сложен, как и состав нам известного простого "белого света". Тут входит и "Лик Христа", к которому он еще с юных своих лет привык обращаться как к неоспоримой небесной красоте, которою проверяется все сомнительное, земное. Может быть, в чувстве Достоевским Христа заключалась личная особенная примесь, может быть, он чуть-чуть Его иначе чувствовал, чем все мы, чем православный обыкновенный священник; именно -- жизненнее нас, не столь книжно и воспоминательно, как мы. Второю частью "гармонии" Достоевского было его русское народное чувство, почти -- простонародное ("Мужик Марей", "Столетняя" в "Дневнике писателя" и там же некоторые рассуждения). С ним к концу жизни слилось его отношение к Пушкину и к лучшим частям нашего образованного класса, с их "всемирной отзывчивостью и перевоплощаемостью". Неразъединимо это ощущение Достоевским своего народа сливалось с упомянутым уже чрезвычайно жизненным ощущением Христа. "Наш народ (и только наш) -- Христа в себе принял -- оттого он такой", -- вот формула и частые разъяснения Достоевского. Для него "православие", "Христос", "народ русский" сливались так тесно, что можно было одно имя употреблять вместо другого; и это не звуковым образом, а мистически. Известно, что есть в русском народе секта, которая кроме Иисуса Христа, распятого при Понтийском Пилате, признает множество воплощаемых на земле "христов" и "богородиц", к которым относит все благоговение, какое надлежало бы относить к Тому одному. В чудных, выразительных страницах Достоевского о русском "народе-богоносце" ("Бесы") мы чуть ли не имеем гениальную и интеллигентную вариацию этого народного мифа-веры. И, вместе, чуть ли в Достоевском и его пророчественном, вдохновенном творчестве нам не дан психологический ключ к разгадке этой темной русской секты. Третья часть "белого луча" Достоевского лежит в его пантеизме, однако не объективно художественном (как у Гете), а скорей в пантеизме субъективно-религиозном, нервно-моральном. Достоевский не сказал: "Я любуюсь на паука", "созерцаю в нем мудрость природы и изучаю его", а кратко и вместе сильнее: "молюсь ему". Тут, пожалуй, тоже есть наука и есть любование, но они позади и забыты, а налицо -- сладкая молитва, экстаз. "Дневник писателя" он открывает с рассуждения "О Большой Медведице" (созвездии) -- немножко странно для публициста, слишком высокая нота для журналиста. Это -- характерная хлыстовская нота, ибо и хлыстов наших, несмотря на их "духовные стихи" и постоянные ссылки на Христа, миссионеры очень тесно связывают еще с дохристианским язычеством. И тут есть основательность. Мы уже заметили, что и в старце Зосиме "Братьев Карамазовых" действуют более звезды, чем монастырский устав, доброта лесов, благость утреннего воздуха, "который вдыхают злые и добрые". Мы вообще не различаем в себе мотивов религиозности, а разобраться в них, исследить душу даже великого подвижника -- и найдешь в ней слой за слоем чуть ли не целый том "истории религий", и самых древних, и самых новых. Кто объяснит нам, почему Франциск Ассизский и люди его типа вырастали только в пустынножительстве, среди скал, в пещерах, среди вековых сосен, а едва подвижник входил в город, он начинал действовать и говорить жестко, сухо, кратко, раздраженно. И в тех мантиях, в которых мы видали Франциска Ассизского, мы трепещем Торквемады. Монастыри, уединенные в лесах, в древних "священных рощах" Галлии, в диких горах Пиренеев, Апеннин, Афона, -- дали все христианство, весь его дух, аромат. Города дали иерархические препирательства, власть, закон, томительные книжные споры. Тут разграничение между Никоном и Сергием Радонежским, между Франциском Ассизским и Иннокентием III; между Ватиканом и... напр., лесною Русью.